У Казахстана и России много общего. Мы большие, малонаселенные, многоэтнические государства, наши экономики завязаны на добыче природных ресурсов, у нас схожие политические режимы, в которых роль “скрепов” играют лидеры нации», — говорит Наргис Касенова, директор Центра центральноазиатских исследований при алматинском университете KIMEP (институт менеджмента, экономики и прогнозирования).
Но в начале года президент Казахстана декларировал начало программы радикальных реформ «100 шагов», которую ряд российских экспертов назвали путем к созданию нового Сингапура, — этим Казахстан сильно отличается от России. Об этой программе, о внешней и внутренней политике Казахстана мы поговорили с экспертом.
— Наргис, программа вашего президента весьма амбициозная, но настораживает то, что она была презентована перед выборами, а в это время всегда делаются громкие заявления. Сейчас, когда ваш президент переизбран, делаются ли какие-то шаги в развитие этой программы?
— Программа была подготовлена, думаю, не под выборы. Определенные сигналы о том, что какие-то реформы будут готовиться, до нас доходили уже год назад. Национальная цель Казахстана, о которой Назарбаев тогда заявил, — это вхождение в тридцатку самых развитых стран мира к 2050 году. И в связи с этим он начал сотрудничать с Организацией экономического сотрудничества и развития.
ОЭСР — это клуб самых богатых и развитых государств. И в январе в Давосе премьер-министр подписал меморандум о сотрудничестве с этой организацией, сейчас обсуждается безвизовый режим со странами – членами ОЭСР к 2017 году. Там же, в Давосе, было подписано и предварительное соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС.
Что делается сейчас? При канцелярии премьер-министра создается комиссия по модернизации, что тоже очень интересно: обычно такие центральные вещи делаются президентской администрацией. Полагаю, ключевую роль в подготовке этой программы играл премьер-министр. Ему 50 лет, он еще полон сил и, видимо, у него есть мандат доверия со стороны президента.
— Каковы, на ваш взгляд, шансы, что реформы будут реализованы?
— Реформ в Казахстане заявлялось много. Программу запускали, потом про нее забывали и запускали новую. У этих реформ тоже есть шанс на неудачу, но на этот раз попытка более серьезная, потому что задействованы серьезные структуры — ОЭСР, Евросоюз, ВТО. 27 июля мы вступили в ВТО, можете нас поздравить.
Две системы
— Какое, на ваш взгляд, самое слабое место программы «100 шагов»?
— Судебная реформа. Наши правоведы ничего особенного от нее не ждут, и вот почему. Судебная система в Казахстане не является независимой. А механизмов, которые сделают ее таковой, в программе реформ нет. Предусматривается много инструментов для отбора и контроля людей, которые будут входить в число судей, причем контроля со стороны Верховного совета. И если сейчас какие-то независимые судьи есть, то эта система будет выталкивать их.
Интересно, что «100 шагов» предполагает существование двух параллельных судебных систем. Для местных сохранится традиционная система. А для инвесторов создадут особый суд, который будет работать по английскому законодательству с иностранными судьями, чтобы инвесторы не боялись, что их инвестиции пропадут. Как это будет сделано, я пока не знаю, но известно, что суд для иностранцев будет располагаться в финансовом центре в Астане.
— Одна страна — две системы?
— Да. Сейчас таким образом существуют университеты. Есть публичные и частные университеты, которые полностью подчиняются Министерству образования. И есть университет Назарбаева, который Минобразования вообще не подчиняется. У него своя жизнь, своя программа, и он не живет по тем законам, по которым живут остальные вузы.
Не было выбора
— В Казахстане еще в 1990-х годах много предприятий перешло в собственность иностранных компаний. Та корпоративная культура, которую приносят иностранцы в компании, перетекает в другие сферы?
— Потихоньку да. Допустим, социальная ответственность — не наша идея. Пришли большие компании и принесли ее, правительство подхватило. Конечно, подхватило в том числе из желания поделиться ответственностью, чтобы эти компании строили школы и помогали обществу. Сказать, что все в этом смысле хорошо, я, конечно, не могу. Но считаю, что самое большое достоинство нашего президента в том, что он открыл страну. Хотя выбора у нас, наверное, не было. Ставка была сделана на то, что придут инвестиции, особенно в ресурсный сектор, и на этом мы выедем.
— Открыв ворота всем иностранцам, вы открыли их и Китаю?
— Вначале не совсем открыли. Китай, например, долго не пускали на Каспий. В 1990-е годы, когда одна из компаний, работающая на нефтяном месторождении Кашаган, продавала свою долю, ее хотели купить китайцы. Негласно наше правительство обратилось к членам консорциума с просьбой не продавать Китаю. А в 2013 году Китай купил долю в North Caspian Operating Company, компании, ведущей разработку Кашагана.
Китайцев в первые годы очень боялись. В архивах можно найти сведения, как наш Совет безопасности в начале 1990-х годов изучал вопрос, за сколько часов китайская армия может достичь каких-то пунктов. Потом, когда мы делимитировали границу, стало ясно, что Китай на нашу территорию не претендует. Но боязнь миграции китайцев сохраняется.
— Насколько я понимаю, Китая в Казахстане уже очень много…
— Китая много — китайцев мало. У нас пока существуют довольно строгие квоты на приезд китайцев, даже получить визу для китайского профессора трудно: надо, чтобы на это дал добро МИД. А пригласить европейского или американского профессора проще простого — я могу сама написать приглашение на конференцию, и человек получит визу. То есть Китай у нас стратегический партнер, но визовый режим очень строгий.
— Размеры прямых инвестиций Китая в экономику Казахстана впечатляют: экономист Владислав Иноземцев утверждает, что инвестиции Китая в вашу страну в 10,5 раза больше, чем в Россию…
— Впечатляет. Но в этом объеме большая часть — кредиты. Иметь долг перед какой-то страной в миллиарды долларов, если тебя о чем-то попросят… Не знаю, как долго мы сможем говорить: «Нет». Пока Китай действует очень аккуратно, с полным осознанием того, что не все себя комфортно чувствуют в этой ситуации.
— Страх китайской миграции существует не только у простых граждан, но и у элиты?
— Да, но элита, по моим ощущениям, немного расслабилась и решила, что надо ловить возможности. А сейчас в связи с кризисом на Украине Китай смотрится не так плохо. Хотя 100-процентного энтузиазма по этому поводу в Казахстане тоже нет.
Во взаимоотношениях с Китаем у нас есть проблема использования водных ресурсов, и она очень серьезная — китайцы разбирают воду Иртыша, из-за чего Астана может остаться без воды. Но переговоры ведутся, и Казахстан хотел бы, чтобы Россия в них тоже поучаствовала, — правда, пока что-то не получается.
— Есть крупный китайский проект, о котором много говорят, — «Экономический пояс Шелкового пути». Ваш президент поддержал его?
— Да. У нас был свой похожий проект: «Западный Китай — Западная Европа». И под это дело нам дал деньги, в частности, Азиатский банк развития. Это автомобильная и железная дороги, их строительство заканчивается. В Казахстане такая идея: у нас нет выхода к открытому морю, поэтому нам надо стать транзитной зоной, транспортным коридором. А если еще и Китай даст денег… Мы сейчас строим коридоры во всех возможных направлениях. Много разговоров идет о железной дороге Казахстан — Туркменистан — Иран, ее строительство тоже близко к завершению. И если санкции с Ирана снимут, она обеспечит нам довольно короткий доступ к морю.
— Один из способов формирования дружелюбного отношения к стране — обучение в ее вузах иностранцев, которые возвращаются домой с добрыми чувствами к стране, которая их учила…
— 12 тысяч наших студентов учатся в Китае.
— На что родители настроены больше — чтобы дети учились в Китае или в России?
— Смотря у кого какие планы. В Россию едут многие русские, чтобы потом там остаться. А в Китай едут по другой причине. Обучение у нас стоит дорого. На обучение в Назарбаевском университете предоставляются гранты, но поступить туда трудно — высокий конкурс. В Китае же учиться намного дешевле. Потому дети из небогатых семей рассматривают китайский вариант. Вообще, у нас считается, что надо больше ездить и учиться за рубежом.
— И люди возвращаются?
— Кто-то возвращается, кто-то нет. Тем, кто уехал по программе «Болашак» (международных стипендий президента) и не вернулся, надо возвращать существенную сумму.
— Русских в Казахстане сейчас порядка 20%, если не ошибается «Википедия». Каково отношение к русскому языку?
— У нас это официальный язык, документы готовятся и на русском, и на казахском, и первый язык, на котором обращаются, русский. Казахстан — самая русифицированная республика из стран СНГ. Алматы, где я живу, был очень русскоязычным городом. Но сейчас все больше появляется людей, которые говорят только на казахском: идет миграция из сел и, кроме того, есть оралманы — казахи, которые приехали из Монголии, Китая и немного из Турции. Они даже считают, что мы тут ненастоящие казахи, и язык у нас ненастоящий — слишком много в нем русских слов. А у нас нередко говорят, что они «понаехавшие», — ведь тем, кто приехал, помогают, а тем, кто живет здесь, нет. Психологически ситуация интересная.
Сумеречная зона
— Насколько открыто обсуждается вопрос, кто будет президентом после Назарбаева, которому уже 75 лет?
— Тема не запретная. И даже книжка написана на эту тему: «Сумеречная зона» — в ней группа политологов обсуждает возможные сценарии перехода власти. Ее можно купить во всех книжных магазинах.
— Сам президент не проявляет каких-то преференций по отношению к возможному преемнику?
— Это был бы «поцелуй смерти» в наших условиях! Что-то там, видимо, готовится, но мы об этом ничего не знаем.
— Существует ли у вас политическая оппозиция?
— Уже нет. Политическое поле зачищено намного лучше, чем в России. Только что вышел отчет Freedom House, который замеряет степень демократичности государств от 0 до 7 (чем ниже балл, тем лучше). У нас индекс 6,61, в России — 6,46. В Казахстане были оппозиционные политики, были и олигархи, которые спонсировали демократические движения. Но на них оказали давление, и все они вышли из политики. И в этом смысле программа «100 шагов» никаких изменений не предусматривает. Линия такая: пока нет большого среднего класса, серьезными политическими реформами мы заниматься не будем. Стратегия Казахстана — открытость, интеграция в глобальные рынки, по возможности — игра по правилам богатого респектабельного клуба, но без реформ в политической сфере.
— Как власти относятся к общественной активности, протестным движениям?
— Общественные организации регулируются достаточно жестко — чтобы не было хаоса. Но какие-то движения развиваются. Когда в 2013 году в Казахстане срезали декретные выплаты для работающих, женщины и прогрессивная мужская часть объединились, проводили акции протеста, в частности в Алматы.
Вообще, чтобы провести демонстрацию в центре города, нужно получить разрешение, а на это есть очень строгие требования. И обычно в центре проводить не разрешают — только на окраине, где есть что-то типа Гайд-парка. Но какой смысл там протестовать, где тебя никто не увидит и не услышит? Сторонники этого движения собрались в центре, на демонстрацию пришло множество беременных женщин, и никто их не трогал.
— Удалось ли им чего-то добиться?
— Законопроект на некоторое время отодвинули. Поскольку в движении участвовали профессионалы, они знали, кому и как писать письма. И эти люди до сих пор действуют — консультируют женщин, которые уходят в декрет. Появляются и другие неполитические движения — например, экологические. Гражданское общество, пусть в эмбриональном состоянии, но есть.
Справка
«100 шагов» Назарбаева
В Казахстане объявлено о начале взаимосвязанных реформ, получивших название «100 шагов». Программа состоит из пяти блоков.
1. Формирование современного государственного аппарата.
2. Обеспечение верховенства закона.
3. Индустриализация и экономический рост, включая улучшение условий для предпринимательства, приглашение стратегических инвесторов, создание совместных производств, кластеров, строительство евразийских транспортных коридоров.
4. Формирование единой нации.
5. Транспарентное и подотчетное государство.
Цифра
3,3 тыс. км автомобильных и 1,4 тыс. км железных дорог построил Казахстан в 2013–2014 годах, Россия — 1,1 тыс и 170 км, по данным экономиста Владислава Иноземцева.
Источник: http://altapress.ru/story/163650





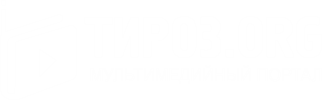
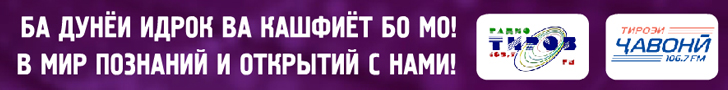
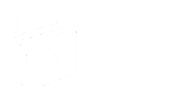





Нет комментариев